"Аленький цветочек"
Иллюстрированное издание известного сюжета,
записанного Сергеем Аксаковым, в оформлении Гали Зинько.
записанного Сергеем Аксаковым, в оформлении Гали Зинько.
У этого древнего сюжета, бытующего во многих народах, есть своя особая судьба с решающими поворотами. Один из них — сказка, записанная Сергеем Аксаковым в 1857 году со слов ключницы Пелагеи.
Несмотря на столь позднюю, в контексте фольклора, дату, именно эта версия сохранила важные для исследователей детали.
Кем на самом деле является чудовище? Что означает алый цветок в сказке? При чём здесь религиозная мысль и почему так важно беречь народную сказку? Эти вопросы освещены в послесловии к книге и подкреплены иллюстрациями. Множественные отсылки к известным произведениям искусства делают проект полноценным исследовательским высказыванием и ставят книгу в ряд редких изданий. Смысловая и визуальная составляющие делают издание многослойным для восприятия, что позволяет представить его широкой аудитории
Несмотря на столь позднюю, в контексте фольклора, дату, именно эта версия сохранила важные для исследователей детали.
Кем на самом деле является чудовище? Что означает алый цветок в сказке? При чём здесь религиозная мысль и почему так важно беречь народную сказку? Эти вопросы освещены в послесловии к книге и подкреплены иллюстрациями. Множественные отсылки к известным произведениям искусства делают проект полноценным исследовательским высказыванием и ставят книгу в ряд редких изданий. Смысловая и визуальная составляющие делают издание многослойным для восприятия, что позволяет представить его широкой аудитории
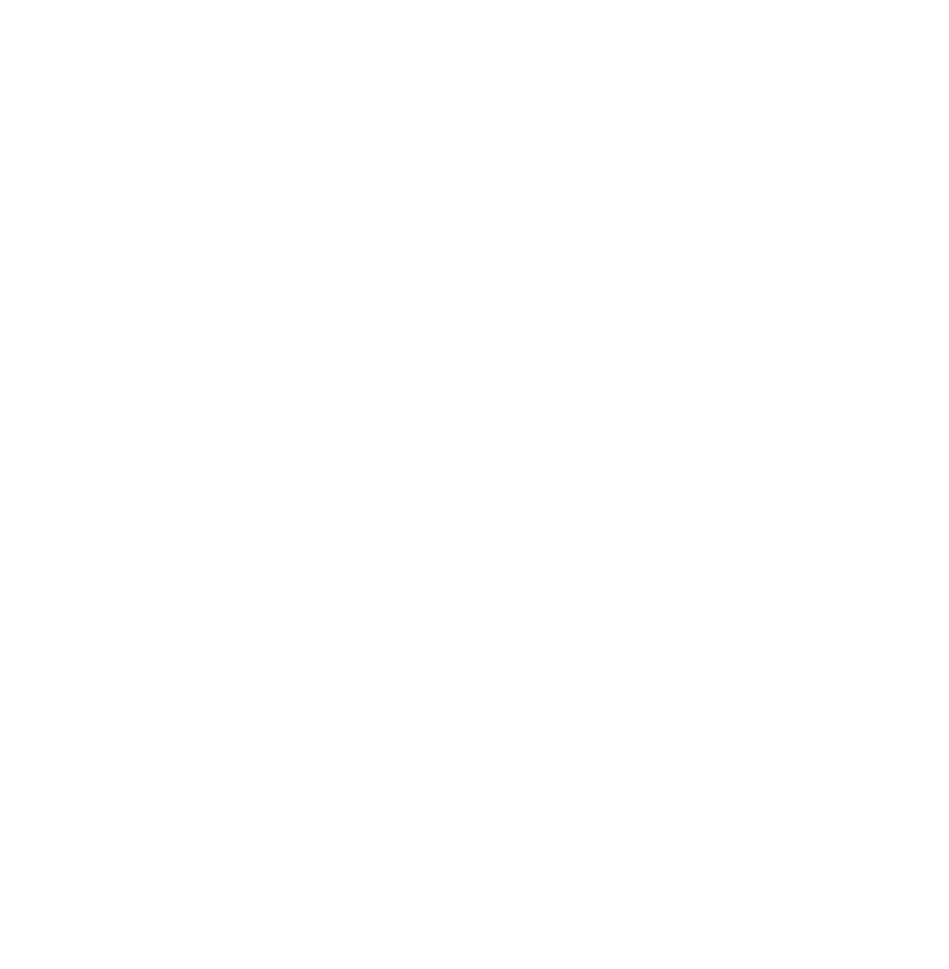
В этом издании внимательный читатель заметит отсылки к произведениям искусства разных времён: несколько работ Микеланджело, картину «Поцелуй Иуды» Джотто, «Остров мёртвых» Бёклина на заключительной иллюстрации. Эти произведения выбраны как универсальный культурный язык, понятный большинству, — на нём можно объяснить чудовище как Бога, намекнуть на предательство сестёр или показать двойственность смысла заключительной сцены сказки.
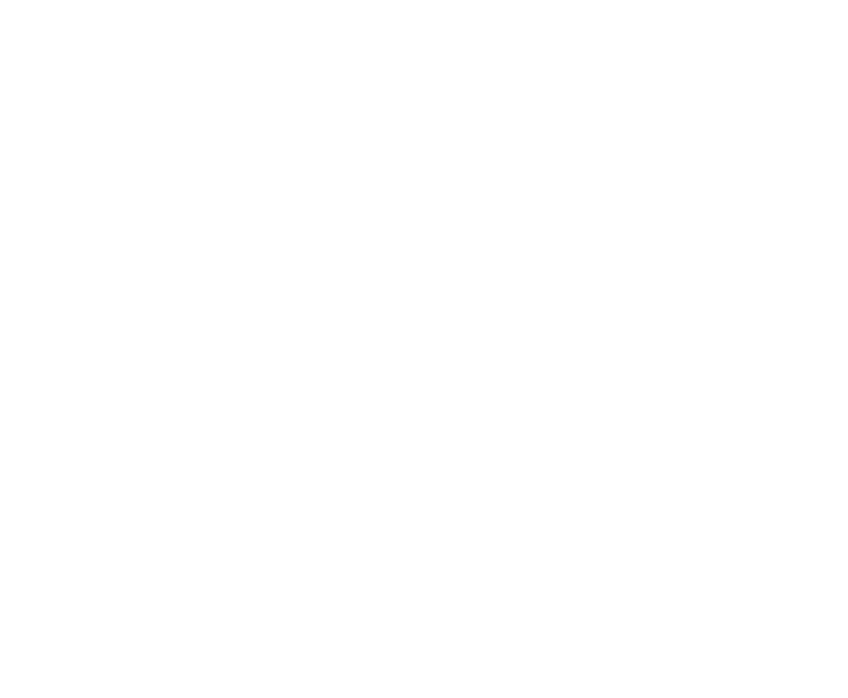
Сказка — это окуляр, обращённый во времени к маленькому (всякому) человеку.
Заглянуть в него может каждый, но немногим удавалось рассмотреть природу сказки сквозь сложные фасеточные стёкла — смешливые и страшные одновременно.
То, что удалось увидеть мне самой, я объяснила в статье «Сказка как религиозное высказывание», размещённой внутри книги. Первое издание будет представлено этой осенью на ММКЯ, а позже появится и в Европе.
Галя зинько
Заглянуть в него может каждый, но немногим удавалось рассмотреть природу сказки сквозь сложные фасеточные стёкла — смешливые и страшные одновременно.
То, что удалось увидеть мне самой, я объяснила в статье «Сказка как религиозное высказывание», размещённой внутри книги. Первое издание будет представлено этой осенью на ММКЯ, а позже появится и в Европе.
Галя зинько
Аленький цветочек. Сказка как религиозное высказывание.
Однажды Бог крикнул «Я» — и эхом разнеслось человечество, а вместе с ним сказка.
Я верю, что первая прочитанная книга, первый фильм и увиденная картинка отпечатываются на всю жизнь.
Когда-то моими первыми книгами для самостоятельного чтения оказались два тома молдавских сказок. Впрочем, не столь важно, что именно молдавские, потому что морфология сказки показывает, что большинство сказочных сюжетов народов мира совпадают. И это, пожалуй, главная загадка: почему в те времена, когда народы ещё не имели возможности контактировать между собой, поскольку сообщения между континентами не было, в разных частях света уже зарождались идентичные сюжеты.
Как знать, возможно, именно из-за тех двух книг так случилось, что народные сказки всё ещё волнуют меня. А когда я стала иллюстратором, само собой, меня увело в классический народный сюжет. «Золушка», «Спящая Красавица», «Красная Шапочка» и другие — мы все знаем эти истории как детские сказки. Однако многим также известно, что когда эти сюжеты появлялись, то вовсе не предназначались для детей. Более того, у древних народов считалось необходимым принять посвящение во взрослую жизнь, чтобы получить возможность слушать сказки. Таким образом‚ очевидно, что первосмыслы сказок куда древнее, чем жанр детской литературы. Всеми любимые Шарль Перро и братья Гримм, с одной стороны, продлили литературную жизнь сказки, но с другой — низвели её до разряда детскойлитературы. А теперь уже даже их собственные адаптации не найти без подстройки под современный лад. В общем, тело сказки всё больше походило на нечто декоративно-минималистичное, и многие важные вещи были утрачены либо изменены.
Ответственный исследователь фольклора В. Я. Пропп в своей работе «Морфология сказки» объясняет, как сказка родилась из мифа; он впервые даёт самое точное определение сказки, выделяет особенности её поэтики и основные функции. Но нам в контексте «Аленького цветочка» важно ещё и понимать принципиальное отличие сказки от мифа. В той же работе В. Я. Пропп говорит, что в мифы архаичное общество действительно верило в отличие от сказки-байки. В мифах участвовали боги и герои, чьи поступки влияли на всё человечество, в сказке же герой устраивает только своё личное счастье, иногда оно распространяется на близких. Тем и интересен для нас текст Сергея Аксакова, что в нём можно проследить, как сказка буквально вырастает на теле мифа и как в ней отражается движение идеологической мысли архаичного человека.
Сюжет «Аленького цветочка», как и другие сказочные сюжеты, существует у разных народов мира и известен со времён Античности. Точнее, тогда он впервые был зафиксирован Апулеем, но родился явно задолго до этого. Текст Апулея — литературная обработка, записанная философом, и даёт возможность понять, какие элементы этого сюжета существовали во II веке нашей эры, однако русская версия сказки имеет более архаическую версию. Несмотря на некоторые различия, оба сюжета относятся к циклу сказок, где девушка попадает в роскошный сад или дворец и оказывается во власти чудовища. И если в тексте Апулея роль чудовища выполняет бог, то в «Аленьком цветочке» Аксакова современному человеку бога ещё нужно разглядеть. Однако нетрудно заметить, что чудище имеет все черты антропоморфного бога, который творит волшебный сад как некое неземное пространство, и находится оно там, где исчезает солнце и рождается новое. Два солнца упоминаются в тексте, когда купец пробирается через лес и впервые попадает в волшебный сад. От исследователей фольклора мы знаем, что лес для архаичного общества являлся местом сакральным, местом совершения обрядов. Он — граница между миром профанным и миром духовным, а два солнца подчёркивают эту дуальность.
Таким образом, купец попадает в пространство сакрального. Как уже было упомянуто, боги — герои не сказок, но мифов, а в сказке «Аленький цветочек» главный персонаж именно Бог, что отличает этот сюжет и приближает его к мифу, что‚ в свою очередь‚ может свидетельствовать о его раннем происхождении.
Если мы имеем дело с мифом, то мы имеем дело с архаикой‚ и нам лучше разобраться с тем, что значил миф для древнего человека. Мирча Элиаде, выдающийся религиовед и философ, введший понятие «хомо религиозус», в своей работе «Аспекты мифа» определяет его как раз через миф. Румынский философ выясняет, что все народы мира упоминают в своих мифах некий утраченный рай и стремление вернуться к нему как высшую цель. Осуществить эту идею можно, лишь достигнув своего божественного прототипа. Любое достижение в архаичном обществе означало новый социальный статус, сопровождающийся обрядом посвящения. Тут мы вновь возвращаемся к «Морфологии сказки» В. Я. Проппа, который в своих исследованиях пришёл к выводу, что всякая волшебная сказка, по сути, об инициации. В продолжение еговыводов нелишним будет вспомнить работу «Обряды перехода» ван Геннепа, на первый взгляд имеющую косвенное отношение к фольклору, но самое непосредственное к обрядовой культуре. Ведь инициация — это обряд, а обряд обслуживает обычай, обычай‚ в свою очередь‚ обслуживает миф как религиозный ориентир. И в сюжете «Аленького цветочка», скорее всего, мы имеем дело с обычаем принесения жертвы. Речь идёт о распространённом в древних культурах ритуальном действии жертвоприношения в угоду богам.
На основе обширного исследования дописьменных и письменных обществ ван Геннеп пришёл к выводу, что обряды перехода состоят из трёх различимых последовательных элементов: прелиминальной, лиминальной и постлиминальной стадий. Автор выделяет три типа обрядов (отсоединение, ламинарный, включение). То есть любой обряд имеет внутри такую структуру, которая идентична всем трём типам обрядов. Для нас это интересно, потому что такая конструкция вполне совпадает с конструкцией волшебной сказки. Герои сказок сперва оказываются оторваны от семьи, дома, родной земли, потом преодолевают различные трудности, испытания, что соотносится с промежуточными обрядами, а в конце герой устраивает своё счастье, зачастую воцаряется на чужой земле.
Таким образом‚ можно объяснить связь мифа и сказки в контексте идеологии хомо религиозус.
Но сказка — это не остывший миф и не адаптированный, это отдельное фольклорное явление, выросшее на теле мифа и обслуживающее его так же, как сам миф является частью большого фольклорного механизма, описывающего природу божественной космогонии.
Мотив возвращения в потерянный рай присутствует и в сказке «Аленький цветочек». Однако заветный рай — это не прекрасный сад чудовища, как может показаться на первый взгляд. Пространство сада — лишь показываемая герою, доступная ему часть, даже своего рода приманка. В сказке есть подробное описание этого места, он рисуется как нечто невероятное: деревья и птицы там невиданные, изобилие украшений, пищи и нарядов поражают воображение героев, попадающих в него. Невидимые слуги прислуживают в саду героине, а жуткие голоса невидимых существ вторят чудовищу, когда купец срывает заветный цветок. Сад описывается как нереальное место, которое не мог создать человек.
Чтобы понять, что всё-таки является пространством рая, нужно понять роль алого цветка в сказке. Очевидно, что это не обыкновенное растение и не просто красивый цветок. С самого начала он манит главную героиню, манит как пророчество, как абсолютное счастье и заветная мечта. Он резко контрастирует с подарками, которые заказывают сёстры. Вполне земные предметы роскоши. Кстати, Пропп предположил, что подарки сестёр — это бытовые подвенечные предметы, точнее, один из них им не является только потому, что был изменён рассказчиком в силу его социального положения (заменил на более ценный по его мнению). По аналогии можно предположить, что аленький цветочек в качестве подарка для младшей сестры тоже имеет отношение к символам замужества, но сакрального происхождения.
В тексте сказки есть несколько описаний качеств цветка, среди них такие: он освещает дорогу и прирастает к стеблю, когда младшая дочь возвращает его в волшебный сад. В общем, цветок имеет все признаки огня, а в связке с богом и обрядом — ритуального жертвенного огня.
Божественная природа огня подробно описана фольклористами. Испытание огнём, огненная река, оживление умерших через огонь, огонь как божественное знание и прочие функции огня подтверждают его посредническую роль между человеком и богом, между смертью и жизнью.
Принято считать, что все мы наследники средиземноморской цивилизации и вся европейская философия — это комментарий к Платону, но порой забывают о масштабном культурном наследии Древнего Египта, создавшего сложную систему богов и подробных философских текстов.
В египетской культуре концепция смерти была одной из определяющих.
Французский египтолог Жан Йойот писал, что смерть породила Древний Египет и самого человека, потому что в отличие от животного человек знает о конечности своей жизни и пытается её запечатлеть. Предположу, что именно мысль о смерти, а значит, религиозная мысль сделала человека человеком и отделила от мира животных. Смерть породила воспоминание о предках и впоследствии культ предков у некоторых народов, а затем и дальнейшее развитие религиозной мысли.
На протяжении веков египетские тексты пытались осмысливать смерть не как угрозу и опасность, а как момент перехода, и священные тексты описывали не что иное, как сложный обряд инициации в пространство вечной жизни. Обжигающие свойства огня присущи божественным знаниям. Например, в древнеегипетской книге Тота есть текст, в котором земной человек засыпает бога просьбами и говорит, что знает о существовании книги, написанной рукой бога, с вселенскими тайнами, и что он хочет проникнуть в эти тайны. На что Тот отвечает «О дитя, смотри, вотэтот свиток — это море, берега его — края, поросшие тростником, никто не знает протяжённости берегов этих. Плыви же в водах этих, когда бог разрешит тебе». В процессе общения с богом человек совершенствуется и узнаёт, что есть покои, в которых хранятся магические святыни и предметы, тогда он просит ключ, и Тот ему отвечает: «Смотри, дитя, подобны эти покои печи раскалённой, сожжёт там пальцы свои тот, кто не испытывал жары до этого».
Я предположила, что нечто подобное происходит в волшебном саду с героиней нашей сказки и чудищем, там, где речь идёт о долгих прогулках и разговорах между ними. Это отражено в иллюстрации, Бог показывает младшей дочери огненный цветок, как бы являя ей недоступные человеку знания, чем завоёвывает её расположение и преданность.
В иллюстрациях читатель заметит отсылки к произведениям искусства разных времён: несколько работ Микеланджело, картина «Поцелуй Иуды» Джотто, «Остров мёртвых» Беклина на заключительной иллюстрации. Эти произведения выбраны мной в качестве понятного большинству культурного языка, на котором можно объяснить чудовище как Бога, намекнуть на предательство сестёр или показать двойственность смысла последней сцены сказки.
По моей задумке, на этой заключительной иллюстрации читатель становится свидетелем условной свадьбы. Место зрителю отведено на расстоянии, сам он ещё не на острове, но приближается к нему, как все мы. К тому же он находится в такой точке, где можно наблюдать сцену целиком‚ в отличие от героев сказки, находящихся на острове‚ как на сцене театра. Зритель наблюдает то ли свадьбу, то ли похищение невесты, то ли праздник, то ли жертвоприношение, то ли явь, то ли сон.
В тексте сцена свадьбы описана достаточно формально, и персонажи в ней кажутся почти бесстрастными. Что важно, случается это после слов «и упала без памяти молодая дочь купецкая, красавица писаная», что в сказочном контексте означает умирание в новый статус и после обращение чудовища в человека. Мы будто наблюдаем героев в новой, преломлённой реальности. Таким образом, умирание происходит в новое пространство, пространство Бога. Умирание в Бога — это и есть тот недостижимый рай и суть идеи вечного возвращения хомо религиозус.
В тексте сказано, что главная героиня спасает чудовище, успевая к нему, погибающему без её присутствия, в то время как сёстры переводят часы и т. д. Но в пространстве Бога нет времени, опоздать туда невозможно. Нарочито услужливое, театрализованное пространство волшебного сада можно сравнить с античным театром, который корнями уходит в мистерии, посвящённые Дионису, богу метаморфоз, чей праздник отменял само понятие времени и возвращал к безвременью мифа. Эта двойственность сказки отражает сложную конструкцию мышления древнего человека, которая заключалась одновременно в линейном и цикличном восприятии времени. Внимательный читатель заметит, что в тексте говорится об одиннадцати девушках, которых зверь залучал в свой сад, а героиня становится двенадцатой. Число 12 часто встречается в сказках, иногда оно связано с урожаем, а иногда с жертвоприношениями, но главное — число 12 символизирует цикл, и тот факт, что он заканчивается, означает лишь то, что начнётся вновь. Для сказки важно, что героиня преподносится особенной, единственной, полюбившей и разглядевшей бога в звере. Но «мифологичное», проглядывающее из сказки, говорит о том, что это не имеет значения ни для Бога, ни для времени, и каждая предыдущая условная героиня такая же особенная, как следующая. Эта интересная деталь почему-то не упоминается в других версиях этой сказки, только у Аксакова. И я отобразила её на форзаце: младшая дочь покидает пространство сада, а за ней следуют тени, повторяющие её собственный силуэт.
Можно сделать вывод, что народная сказка — это фольклорное устройство, настроенное под возможности человеческого сознания, которое даёт нам шанс взглянуть на необъятное пространство мифа, сложное и, скорее всего, до конца непостижимое для человеческого сознания. Сказка — это своего рода сложный язык, инструкция к мифу и божественной космогонии, сотворённая человеком для человека.
Галя Зинько, иллюстратор
"АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК"
Сказка как религиозное высказывние
